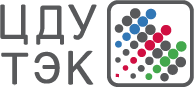В 2016 году наша страна подписала Парижское соглашение по климату, а в сентябре 2019 года оно было ратифицировано, то есть на территории России документ вступил в юридическую силу. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
Покупаешь квоты — очищаешь атмосферу
По данным ВР, выбросы СО2 в 2018 году во всем мире составили почти 33,9 млрд тонн. Основные объемы выбросов парникового газа происходили в Китае (9,4 млрд т), США (5,1 млрд т), Индии (около 2,5 млрд т), России (около 1,6 млрд т) и Японии (более 1,1 млрд т). На тот период 42% всего российского экспорта приходилось на страны Евросоюза. Россия также занимает 2-е место после КНР по экспорту в ЕС углеродосодержащей продукции — 150–200 млн т в год.
Как посчитали аналитики Еврокомиссии, по итогам 2020 года страны Евросоюза импортировали из России нефть нефтепродукты и газ на €60 млрд (63% в общем товарном импорте ЕС из России, €95,3 млрд). При этом отмечается, что из-за пандемии и снижения цен на нефтегазовую продукцию поставки упали.
Еще в 2005 году в Европе ввели систему торговли квотами (EU ETS), основная идея которой — предоставление возможности компаниям, производящим дополнительные объёмы парниковых выбросов, покупать специальные сертификаты у тех организаций и предприятий, которые уменьшают воздействие СО2 на атмосферу и имеют неизрасходованные сертификаты. В настоящее время EU ETS считается крупнейшим в мире углеродным рынком, создавая при этом условия для распределения квот на выбросы углерода. Страны и крупные компании ежегодно отчитываются о сокращении парниковых выбросов, способствуя декарбонизации производства и экономики. До 2012 года 90% квот по предприятиям распределялись бесплатно, потом были введены продуктовые бенчмарки, учитывающие объем выбросов СО2 на тонну продукции, рассчитанные по 10% наиболее эффективно функционирующих предприятий в отрасли (нефтяная отрасль).
Платишь углеводородный налог — декарбонизируешь экономику
Однако в Европарламенте решили, что сертификаты, бенчмарки и торговля квотами — недостаточные меры, чтобы кардинально изменить ситуацию с выбросами. В марте 2021 года была принята резолюция о введении углеродного налога. Предполагается, что ставка будет рассчитываться на базе EU ETS. Таким образом, как отмечают аналитики, система перешла в четвертую фазу, которая предполагает введение аукционной модели с ежегодным снижением предельного уровня выбросов на 2,2%. Как отмечено в исследовании Vygon Consulting, в этой фазе российские низкоуглеродные сертификаты могут быть не учтены при формировании косвенных выбросов и должны стать отдельным пунктом переговоров с европейскими партнерами. Цена квоты внутри EU ETS, достаточно длительное время не превышавшая €10 за тонну CO2-эквивалента, к 2030 году, по разным оценкам, может составить €32–89. Нужно заметить, что разница оценок в €57 между нижним и верхним значениями может говорить как о недостаточной информированности со стороны исследователей, так и о решениях, которые не были до конца проработаны европейскими парламентариями.
Но, как бы то ни было, информация о введении трансграничного углеродного налога, встревожила российские власти и бизнес-сообщество, вопрос обсуждался на заседании Совета безопасности РФ. Дело в том, что ТУР предполагает, что компании, сжигающие в процессе производства много ископаемого топлива, будут платить за каждую тонну углекислого газа, попавшего в атмосферу. Производители тех государств, где действуют механизмы ценообразования на выбросы углерода, совместимые с европейскими, будут освобождены от уплаты сбора.
Об этом, кстати, еще в 2019 году предупреждал экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, который предлагал взимать средства за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов в России. При наличии такого налога Евросоюз мог бы освободить российские товары от нового трансграничного сбора.
Возможные потери
В 2020 году основную финансовую нагрузку в рамках системы торговли выбросами Европейского союза (EU ETS) несли предприятия тепло- и электроэнергетики (€16,6 млрд, из которых €2,5 млрд они получили обратно в виде субсидий). Переработка нефти заплатила около €500 млн, а по сектору нефтегазохимии размер предоставляемых освобождений находится на уровне текущего объема выбросов.
Это данные по прошлому году. В настоящее время ситуация меняется. В связи с этим возникает резонный вопрос, чем российском ТЭКу грозит введение в Европе углеродного налога. Как посчитали в Vygon Consulting, потери на импорт товаров, содержащих высокий углеродный след, могут обойтись российским компаниям €0,3–1,2 млрд в год. Для нефтепереработки оценка составляет €0,14–0,78 млрд, но цифра может вырасти при увеличении экспорта и подорожании эмиссионных квот. Общие потери в нефтегазохимии составят €0,05–0,29 млрд в год.
По мнению аналитиков Vygon Consulting, прямые и косвенные выбросы, а также выбросы при использовании продукции в России составляют 3,1 млрд т СО2-эквивалента, из которых 54% приходится на экспортируемую продукцию.
Согласно оценкам Boston Consulting Group, углеродный налог снизит рентабельность поставок сырой нефти в ЕС в среднем на 20%. Среди наиболее уязвимых эксперты называют сектора, занимающиеся нефтепереработкой и производством кокса, а также горнодобывающую промышленность. В меньшей степени пострадают производители металлургической, химической и бумажной продукции.
В России наибольшие потери от введения ТУР понесут нефтехимические предприятия, металлургические заводы и комбинаты по производству удобрений. Причем сбор затронет не только углеродоёмкие производства, но и косвенно все сектора российской экономики. Соответственно, это повысит стоимость российских товаров, что, в свою очередь, может привести к потере доли рынка в Евросоюзе. К примеру, углеродный налог для российских производителей азотных удобрений может составить 40–65% текущей экспортной стоимости производимой продукции. А из-за возможного снижения рентабельности по причине большей углеродоемкости не исключено, что Россия уступит часть европейского рынка Саудовской Аравии.
В Boston Consulting Group считают, что российские нефтегазовые компании при введении ТУР ежегодно будут платить $1,4–2,5 млрд, производители черных металлов и угледобытчики — $0,6–0,8 млрд, сектор цветной металлургии —
$0,3–0,4 млрд, остальные — $0,8–1,1 миллиарда. Таким образом, дополнительная нагрузка экспортеров из РФ составит
$3,0–4,8 млрд в год.
ТУР нарушает принципы ВТО
Как видим, работы в этом направлении еще достаточно — и в плане законодательных инициатив, и в оперативном их исполнении, и, конечно же, в конструктивных переговорах с Евросоюзом, поскольку никакие экономические санкции в отношении нашей страны не сравнимы с теми угрозами, которые может принести ТУР для российской экономики.
При введении углеродного сбора с 2022 года потери российских экспортеров, посчитали в международной консалтинговой группе KPMG, только в первый год могут превысить €3,5 млрд, а к 2030 году они вырастут до €8,2 миллиарда.
По мнению заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, намерение европейских партнеров ввести углеродный налог «обусловлено не только экологическими, но и экономическими причинами». Еврокомиссия разработала план вывода экономики стран Евросоюза из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, согласно которому введение ТУР станет одной из статей доходов — €5–14 млрд в 2021–2027 годах. Как считает российский вице-премьер, ТУР может нарушить ряд принципов Всемирной торговой организации (ВТО) и положения Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). «Так как вопрос затрагивает интересы и потребности целого ряда стран, при нахождении компромиссных решений в первую очередь необходимо руководствоваться нормами международного права», — подчеркнул Александр Новак. Он также заметил, что форма, способ взимания и методика расчета сбора еще обсуждаются, тем не менее ожидается, что ТУР введут с 2023 года.
Информацию об углеродном регулировании мониторят и изучают в Российском Союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). «Этот вопрос сейчас наиболее значимый, — считает первый заместитель председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию, председатель совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев, — и для предотвращения негативных последствий, связанных с введением трансграничного углеродного регулирования, нашей стране необходимо оспаривать его введение в рамках двустороннего взаимодействия с Еврокомиссией и ЕС, а также в рамках ВТО и международных переговорных площадок по климату».
Парадокс ситуации, по его мнению, состоит в том, что наша страна является абсолютным лидером по сокращению выбросов СО2. В России за 20 лет объем парниковых газов, поступающих в атмосферу, снизился на 57%, на программы повышения энергоэффективности потрачены сотни миллиардов долларов. Игорь Нечаев утверждает, что западные производители будут использовать борьбу с климатическими изменениями для повышения конкурентоспособности. «В связи с этим проблема выходит за рамки конкретных компаний, но и требует серьезного вовлечения власти в ее решение. Только так можно будет защитить национальные интересы в целом», — заметил представитель РСПП.
На совещании о мерах по декарбонизации российской экономики заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что углеродный налог в Евросоюзе создает для российской экономики риски, и призвал «сформировать меры поддержки российских предприятий, отраслей, которые наиболее уязвимы от действий тех, кто вводит антиуглеродное регулирование». «Об этом нужно думать, поскольку эти тенденции уже сформировались, и мы должны понимать, как в этом случае реагировать внутренними решениями, чтобы наша экономика оказалась готова к тем мероприятиям, которые проводят наши партнеры, включая потребителей в Европейском союзе», — сказал Дмитрий Медведев.
Как снизить риски?
Неофициальные консультации между РФ и ЕС по вопросу введения ТУР начались в 2020 году. Информация о ходе переговорного процесса отсутствует. Судя по всему, позитивных сдвигов в этом вопросе пока нет.
Позиция российских властей основывается на том, что энергопотребление в мире будет расти и этот спрос невозможно будет обеспечить без традиционных источников энергии. Как отметил вице-премьер Александр Новак, «искусственные ограничительные меры традиционных секторов ТЭК могут снизить рентабельность и инвестиционную привлекательность отрасли, в результате появится угроза надежности энергоснабжения».
По мнению некоторых экспертов, в качестве одного из вариантов по снижению платежей необходимо запустить систему торговли эмиссионными квотами, аналогичную EU ETS, а также ввести в России свой углеродный налог, что могло бы освободить российские товары от платежей ТУР. Однако директор группы операционных рисков и устойчивого развития KPMG в России и СНГ Владимир Лукин считает, что это было бы достаточно рискованно. Система регулирования, отметил эксперт, должна прежде всего обеспечивать мониторинг и методическое обеспечение учета выбросов парниковых газов, а также поддержку инициатив бизнеса и создание благоприятных условий для их реализации.
Расчеты Vygon Consulting показывают, что общая нагрузка на отечественный бизнес от введения российского углеродного налога будет несопоставима с экономией на платежах ТУР. Общий платеж по такому налогу, если его введут, от отраслей ТЭК составит €14,6–18 млрд в год. Платеж электроэнергетиков — 74–90% от этой суммы. Оставшуюся часть заплатит неф-техимия и нефтепереработка. Добывающие отрасли в периметр EU ETS не входят, соответственно, от платы освобождены. Российские НПЗ от введения национальной системы торговли квотами могут потерять €0,51–2,37 млрд, нефтегазохимические компании — €0,66–2,29 миллиарда.
По мнению управляющего директора Vygon Consulting Григория Выгона, России необходимо внедрять «собственные рыночные механизмы углеродного регулирования, построенные с учетом национальных особенностей». Сюда можно отнести добровольную систему торговли углеродными единицами в соответствии с утвержденным законопроектом «Об ограничении выбросов парниковых газов». Необходимо активнее использовать сертификаты происхождения электроэнергии. В перспективе, возможно, окажется целесообразным введение обязательной торговли квотами, но только по отраслям с большой долей экспорта в ЕС, что позволит перенаправить средства ТУР на нужды российской экономики.
Кроме того, в качестве аргумента на переговорах с ЕС необходимо учитывать тот факт, что РФ находится на первом месте по лесной площади (20% мировых лесов). Но эта позиция должна быть подкреплена реальной реализацией отечественными предприятиями климатических проектов в области лесного хозяйства. Пока такой заинтересованности у бизнеса нет, поскольку для этого отсутствует соответствующая институциональная среда. «Очевидным, но пока не используемым преимуществом», по мнению вице-премьера РФ Александра Новака является низкоуглеродный топливно-энергетический баланс. Доля экологически чистых АЭС и ГЭС занимает до 40% в выработке российской электроэнергии. «Учитывая, что экспортируемые товары потребляют всего 20% от всей производимой электроэнергии, мы как минимум можем обеспечить подтверждение чистоты реализуемой на экспорт продукции», — обосновывал важную аргументацию Александр Новак.
В России появится закон «об ограничении выбросов парниковых газов»
В июне Госдума и Совет Федераций одобрили законопроект «Об ограничении выбросов парниковых газов». Документом устанавливается правовая основа для получения полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов и позволит организациям снижать углеродный след производимой продукции.
Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, в этих целях предусматривается обязанность хозяйствующих субъектов, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, представлять отчеты о выбросах парниковых газов. Критерии деятельности, которая сопровождается значительными выбросами, будут установлены актом правительства РФ.
Кроме того, в проекте закона прописано понятие «целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов», который будет установлен с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития.
Документ также дает право юрлицам и индивидуальным предпринимателям реализовывать климатические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. Для этого будут установлены критерии отнесения проектов к климатическим и порядок верификации их результатов. Появление такого механизма позволит российским организациям снижать углеродный след производимой продукции, а также вовлечь в деятельность по сокращению выбросов парниковых газов заинтересованные организации.