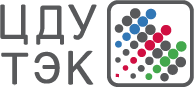Игорь Варченко — известный художник-карикатурист. Его работы считали за честь напечатать «Известия», «Комсомольская правда», «Труд», «Время новостей», «Собеседник», «Коммерсант». В настоящее время он живет на Кипре. Является членом ассоциации кипрских карикатуристов GEL.A., призер семидесяти международных конкурсов карикатуры в Корее, Японии, Германии, Турции, Бельгии, Иране, Италии, Литве, Эстонии, Польше и других странах.



— Игорь, в социальных сетях, в частности, в фейсбуке, в разделе «О себе» написано, что Вы — горный инженер-карикатурист. Почему так?
— Ничего странного в этом нет. Когда заполнял этот раздел в социальной сети, я уже уволился из «ЦДУ Нефти», которое занималось не только контролем добычи нефти в России, но и принимало участие в оперативном управлении всей нефтяной промышленностью страны, и отправился в далекие края — на Кипр. Там я долгое время занимался только карикатурой. Поэтому, помня о своей специальности «горный инженер», я к ней «прицепил» и свою вторую работу, которой вполне профессионально занимаюсь уже почти 32 года (сначала параллельно с основной работой, затем 15 лет на Кипре). Так и родилась эта странная двойная профессия. И, конечно же, это шутка.
— Расскажите о своей принадлежности к ТЭКу. Где учились? У Вас отец был нефтяником?
— Да, мой отец, Владимир Иванович Варченко, был выпускником Грозненского нефтяного института. Всю жизнь работал инженером буровиком в разных регионах СССР, под его непосредственным надзором проводилось бурение нефтяных скважин. В основном в Татарии (Альметьевск, Нурлат) и на Урале — сначала в Пермской области (Кунгур), а затем мы переехали на Южный Урал в город Бузулук. Оттуда в 1976 году я по окончании школы, следуя пожеланиям родителей, отправился в Москву поступать в МИНХ и ГП им. И. М. Губкина. Закончил обучение в 1981 году по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». Получается, что я продолжил во втором поколении династию нефтяников. НО! Настоящей моей мечтой было стать актером или художником. В школе я неплохо рисовал. Однажды, когда наш класс принимал участие в областной «Зарнице», я завоевал первое место для отряда за лучшую стенгазету. Это при том, что было 23 команды со всех городов Оренбургской области. Днем я бегал вместе со всеми, принимал участие во всех соревнованиях, а по вечерам засыпал от усталости в процессе подготовки нашего «Боевого листка». Все это время у других команд над стенгазетами работали взрослые художники, которые не принимали участие в «боевых» действиях. И хотя главным призом была книга «Стратегия стоклеточных шашек», это было уже не так важно. Главное — победа!
— В годы учебы пригодилось ли Вам умение рисовать? Как вообще Вам давалось черчение?
— Как мне давалось черчение? Тут нужно сделать признание, которое покажет меня не с лучшей стороны. К концу первого года обучения я стал институтским диджеем и по вечерам мы с другом проводили дискотеки, на которые собиралась молодежь со всей Москвы. У нас была самая свежая музыка в столице. Все знают, что в Московском нефтяном институте училось много иностранцев, которые привозили отовсюду виниловые пластинки с музыкой лучших групп. Так что на черчение, а точнее на инженерную графику, у меня времени почти не оставалось. Я пропускал курсовые работы по этому предмету, думая, что мое умение рисовать поможет мне легко усвоить основные правила этого предмета. Но моя самонадеянность была наказана. Надо было изучать методички, автором которых был наш преподаватель. С грехом пополам я сдал курсовые работы перед экзаменами… на троечки, и меня все же допустили к экзамену. И снова я стал чудить. Из трех дней, отведенных на подготовку, прогулял два дня, а в последний день меня одолела совесть. Ну как же так? «Где твоя гордость, студент?». И я сел изучать труды нашего преподавателя. Три или четыре часа мне понадобились для того, чтобы понять основные правила предмета. Случилось настоящее озарение. Я попробовал решить задачи в нескольких билетах. Они решались удивительно легко и просто. Спокойно заснув перед решающим утром, я благополучно проспал звонок будильника и приехал из общежития на улице Бутлерова в институт на Ленинский проспект часам к десяти утра. Вся наша группа уже час как сидела в аудитории. Так что я взял свой билет позже всех. Вокруг меня сопели с усердием мои одногруппники, а я уже через пятнадцать минут решил все задачи билета, и преподаватель, который бродил по проходам аудитории, внимательно наблюдая за тем, чтобы никто не использовал шпаргалки, был сильно озадачен. Опоздавший управился с заданием за рекордно короткий срок. Он вызвал меня к себе и через пару минут попросил зачетку. Но заглянув туда и увидев мои тройки за курсовые работы, он горестно всплеснул руками и спросил: «Ну что же ты, родимый, в течение всего семестра делал?». Я честно признался, что гонял лодыря. Он тогда сказал, что поставил бы мне пятерку, не задумываясь, но мое разгильдяйство не позволяет ему оценить мою работу выше четырех баллов. Я все равно был этому рад!
— А в подготовке стенгазет участвовали?
— Да, стенгазеты были моим главным коньком во время учебы и моими ангелами-хранителями. Тут я еще на один вопрос частично отвечу. Принимал ли я участие в стройотрядах? Да, со второго курса. А на первом, в 1977‑м году, пропустил самый стартовый заезд — все студенты работали на второй очереди телецентра в Останкино. Почему пропустил? Вы же не забыли, что моей мечтой было стать актером? Зимой я принял участие в массовке во время съемок фильма «Мимино». Тогда для меня, уральского провинциала, немножечко приоткрылась дверь в мир большого кино. А летом 1977 года в Москве проходил Международный кинофестиваль, и я никак не мог его пропустить! Поэтому я каждый день ездил к гостинице «Россия» и фотографировал звезд мирового кино на старенький «ФЭД» моего друга. Мои фотографии тогда увезли с собой такие звезды, как режиссер фильма «Шербургские зонтики» Жак Деми, две итальянские кинозвезды — Инга Дженти и Ольга Бисера. Я смог растопить суровое сердце гордой полячки Барбары Брыльской, и она дала мне автограф, хотя до этого никто не мог его заполучить. Несколько лет назад история о том, как это все происходило, прозвучала на РТР в ток-шоу. Но вернусь к Международному кинофестивалю. Фотографии я печатал в ванной комнате студенческого общежития на улице Бутлерова, в нечеловеческих условиях — лето, жара, студенты выгоняли, чтобы помыться и уехать гулять в центр столицы. Так я и пропустил участие в стройотряде в том году.
Однако осенью мой великий грех не остался незамеченным в комитете комсомола факультета. Меня попросили написать заявление и покинуть стены вуза за неисполнение священного долга советского студента и комсомольца. Но в тот момент, когда я уже писал заявление, произошло чудо! В комнату вошел наш декан и спросил меня, что я делаю. Когда он услышал ответ, его реакция была очень эмоциональной. Он взял мое заявление и демонстративно порвал его. «Лучшую в институте стенгазету ты будешь рисовать?» — грозно прорычал он, глядя в глаза комсомольскому вожаку. Тот замялся, а Виктор Остапович Палий сказал мне: «Варченко! Шагом марш учиться. Но в следующий раз должен быть в стройотряде, понял?». И я помчался к своим, учиться. В следующие годы я ездил в Подмосковье, а позже помогал дорожным строителям укладывать асфальт в самой Москве.
— Как попали в «ЦДУ»? Можете кратко рассказать, какие были обязанности, с чем приходилось сталкиваться, какие вопросы решать? Какой был коллектив?
— После окончания института я работал в «Особом конструкторском бюро бесштанговых насосов» (ОКБ БН) на Варшавке. Это название хорошо знакомо тем, кто связан в ТЭК с добычей нефти при помощи установки электрического центробежного насоса (УЭЦН). Я был молодым специалистом, инженером-конструктором, но, на самом деле, скорее инженером-испытателем. Конструировали нефтяные насосы заслуженные люди. Например, Нина Сергеевна Карелина. Изумительная женщина. Она одна могла заменить работу целого института. Мой начальник, Шарифджан Рахимович Агеев, был исключительным человеком. Более мягкого и интеллигентного начальника в дальнейшем я не встречал, хотя хорошие люди и специалисты на моем пути попадались часто. Но Агеев, которого мы, молодые спецы, между собой звали Сержантом Рахимовичем, был лучшим из лучших. В нашем отделе в компьютерной группе заместителем начальника отдела работал будущий олигарх — Виктор Феликсович Вексельберг. Он был инициатором внедрения персональных компьютеров в отделе. Из далекой Австралии привезли ПК «Лабтам» и Виктор Феликсович организовал учебу среди молодых специалистов. Это была попытка отлучить молодежь от логарифмических линеек и калькуляторов, а также от допотопных первых компьютеров, при помощи которых данные расчетов набивались на бумажные перфокарты. Учеба продвигалась со скрипом, а мэтры старой школы пытались доказать, что их древние методы конструирования были круче. Однажды наш пожилой конструктор, Юрий Глебович, на спор сделал чертеж рабочего колеса нефтяного насоса быстрее, чем огромный компьютерный графопостроитель! Я ездил в те годы на нефтяные месторождения Гомельщины, в Белоруссию. Испытывал новые насосы при работе на реальных нефтяных скважинах с помощью отечественного прибора «Поток-5». А затем друг (с которым мы когда‑то проводили дискотеки в институте) посоветовал перейти в «ЦДУ». Сначала я работал простым диспетчером, потом стал начальником смены. Мы все были в системе Миннефтепрома, а закончил я работать в 2002 году. В этот период мою жену пригласили поработать на Кипр, и я отправился вслед за ней. Как муж декабристки. Шучу.
— Что рисовали в это время? Дружеские шаржи для коллег делали? С какими изданиями сотрудничали? Платили ли они что‑нибудь?
— К тому времени я уже стал довольно известным карикатуриcтом. На моем счету было около сорока международных премий в разных странах мира. При этом я отправился в свободное плавание, не зная, что меня ждет впереди. Но вы же помните, что вторым моим желанием было стать художником. И я стал им. Дружеские шаржи для меня, всегда были проблемой. Я не любитель этого направления в карикатуре. Мое главное предназначение — делать карикатуры со смыслом. Полученный в 1988 году главный приз Международного конкурса в литовском Шяуляе убедил меня в том, что я способен на большее, нежели стенгазеты в институте или на работе. Меня печатали центральные издания — «Известия», «Комсомольская правда», «Труд», «Собеседник» и другие. Позже и в «Крокодиле», но я уже застал последний период его существования. Конечно, во всех этих изданиях платили гонорары. Не очень густо, но в дополнение к зарплате было неплохим подспорьем для семейного бюджета. Главное, что мои первые начальники в «ЦДУ», Виктор Владимирович Гнатченко и Александр Вячеславович Кочнев, благосклонно отнеслись к моему «странному, не профильному» увлечению и отпускали меня в Бельгию, Польшу, Германию на фестивали карикатуристов. Все это не мешало основной работе. Я подменялся на дежурствах, чтобы ехать за очередным призом в зарубежные страны. И тут надо особо сказать о моих коллегах. Пожалуй, я не смогу припомнить, чтобы кого‑то когда‑нибудь сильно подвел, а они были и до сих пор многие являются просто замечательными людьми. Я смею надеяться, что наша дружба и хорошие отношения до сих пор не угасли, хотя прошло уже 15 лет как я живу на Кипре.
— Помните свою первую карикатурную работу? О чем она была? Как пришли к рисованию, учились ли где? На кого равнялись?
— Первая моя карикатура была опубликована в «Комсомолке» 1 января 1986 года. Это была очень простая работа. Там хозяйственная женщина вешала на елку свежевыстиранное белье для того, чтобы просушить его и заодно украсить зеленую красавицу. Так что свою первую карикатуру я помню очень хорошо. Затем было напечатано еще восемь рисунков. А потом я узнал, что кроме морального удовлетворения существуют еще и гонорары. Что было весьма приятным открытием. Первый гонорар за все напечатанные работы составил чуть более ста рублей, и я тут же купил себе новенькие джинсы. Кто помнит то время, подтвердит, что они тогда столько и стоили. Покупал я с рук, в магазинах этот товар не продавался. И вот я прихожу в ОКБ БН в своей прекрасной обновке в первый раз, а после обеда к нам приезжает съемочная группа — искать лучшие виды для документального фильма про наше КБ. Сержант Рахимович отправил меня с кинооператором на территорию предприятия. Я иду по дорожке мимо здания цеха и вдруг теряю равновесие. После дождя засохшая корка земли на асфальте скрывала под собой жидкую субстанцию. Я нелепо брякнулся, а мои новые джинсы, проехавшись по асфальту как по наждачной бумаге, оказались полностью испорченными. Так и погиб мой первый гонорар за карикатуры. В 1990‑м году я получил свой первый приз в Бельгии, целых $1,5 тысячи. И понял, что карикатура — это не просто развлечение. В тот же год я получил денежный приз в Польше. И с тех пор карусель крутилась уже веселее и веселее. С 1994‑го года я работал в газете «Коммерсант» одним из трех карикатуристов. Первым был Андрей Бильжо, а вторым — знаменитейший Сергей Тюнин! Когда я был ребенком, именно его карикатуры (и еще нескольких авторов) завораживали меня. Начиная с седьмого класса я «заболел» карикатурой, благодаря и ему тоже!
Насчет того, учился ли я рисовать где‑нибудь? Нет! Я — самоучка. Просто любил рисовать с детства. Вот все мои рисовальные университеты. До сих пор считаю, что по части рисования уступаю многим авторам, но способность генерировать идеи карикатур заставляет меня не комплексовать и просто работать без оглядки на свое изобразительное несовершенство.
Несколько лет назад для меня оказалась шоковой история одного иранского юноши о том, что он защищал свой диплом в художественном училище…, опираясь на мои работы. И такое было. Я получил несколько призов в Тегеране. А в 2011 году стал там членом жюри Международного конкурса и познакомился с директором Музея Карикатуры.
— Расскажите о фестивале карикатуры, который Вы проводите в Лимассоле. Насколько сложно такой фестиваль организовать?
— Да, было время, когда я проводил конкурсы карикатуры на Кипре. Их было три. Организация такого фестиваля всегда упирается в наличие спонсора. В одиночку такое мероприятие могут осилить только богатые меценаты и любители карикатуры. В поисках спонсора я всегда бываю слабым звеном. Организаторские способности — не мой конек. При наличии заинтересованного лица с необходимыми средствами, я бы смог провести грандиозное мероприятие на острове. Благо, что наш жаркий климат и чистейшее море позволили бы сделать отличное мероприятие. Но где найти щедрого спонсора? Это главный вопрос. В настоящее время я являюсь членом кипрской ассоциации карикатуристов «Гела» (греческое слово «гелиографос» — это карикатурист). Но, к сожалению, организация не часто балует местное население выставками карикатуры. Прежний мэр Лимассола, мой хороший друг, г-н Андреас Христу, часто помогал нам устраивать выставки и даже поездку с культурной миссией в Санкт-Петербург в 2014 году. Но в прошлом году он проиграл выборы, а новый мэр не является моим другом.
— Ваши дети уже определились по жизни. Какой бы судьбы Вы хотели пожелать своим внукам?
— Дети мои давно выросли. Сын работает менеджером по логистике, закончив МИРЭА. Дочка освоила профессию телеоператора. Сейчас она пока воспитывает маленьких дочек, наших изумительных внучек — Геру и Киру! Но до того как она созрела, чтобы стать мамой, она работала во многих крупных телепроектах.
Не знаю, кем захотят стать внучки. Желаю им счастья и здоровья. Надеюсь, что они не вырастут пустышками. Средняя наша внучка, Кира (4 года), очень сообразительная. Иногда на вопрос о том, как она додумалась до какой‑нибудь оригинальной мысли, она гордо отвечает: «Потому что я умная». А так ли это? Покажет время.